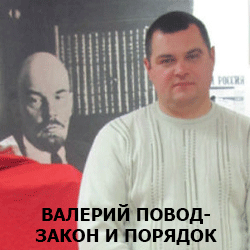ЗАВТРАК ЮРИСТА - 2.
«Зелёненькие».
Художник и философ Эрнст Неизвестный когда-то, стоя у цековского подъезда, подметил острым глазом среди выходящих оттуда две разновидности чиновников. Косноязычных «красненьких» с багровым румянцем на щеках и интеллигентов — «зелененьких», поначалу трудноотличимых в толпе номенклатурных близнецов. Среди красненьких начальники встречались куда чаще, чем среди зелененьких, хотя и те иногда выбивались в люди, и как только это с ними случалось, мигом перенимали барские привычки. Одной из привилегий красненьких было право поручить зелененькому, написать за него статью для публикации от его имени. Как сказал поэт, напишут чужою рукою статейку за милого друга, но подпись его под статьею висит порнографией духа. Казалось бы, красненькому впору стыдиться использования чужой интеллектуальной собственности. Но нет, будучи сам в семидесятые годы министерским зелененьким, я всегда поражался той непосредственной радости, какую испытывали красненькие, видя плоды чужого труда, напечатанные за их подписью. Посмотри-ка, — помню, сказал мне замминистра, неспособный написать и полстрочки, держа в руках журнал с моим текстом под его фото, — большое дело сделали. О том, чтобы отдать гонорар или хотя бы им поделиться, и речи не было.
Это было еще до того, как многие начальники заделались «писателями». Один такой принял на службу в свое учреждение «литературного негра» и потребовал довести до всеобщего сведения, как из простого «мента» сумел дорасти до государственного деятеля. «Негр», чьи собственные произведения я знал и ценил, пожаловался мне на несоразмерно низкую оплату каторжного труда по приукрашиванию довольно-таки скудной биографии. Когда книга под фамилией заказчика вышла, я, воспользовавшись коротким с ним знакомством, поинтересовался, поощрил ли тот подлинного автора. Ответом было недоумение: за что ж платить, если он лишь записывал чужие слова, да и те все переврал? Уже в девяностые я услышал рассказ знакомого профессора, трудившегося в передовом вузе. По просьбе ректора Агафонова, известнейшего демократа, он подготовил тому доклад на европейский симпозиум, тщетно рассчитывая, что тот отдаст ему двести долларов, положенные докладчикам, немалую для него сумму. Вскоре после возвращения ректор с гордостью показал профессору его же текст, опубликованный в популярной газете за подписью ректора.
Прототипы – 1.
В основе сюжета «Левиафана», по свидетельству его режиссера, — американская история. Марвин Химейер (ныне известный под именем Killdozer) купил два акра земли, однако не сумел получить разрешения построить дорогу к собственной автомастерской — это помешало бы соседнему цементному заводу. Химейер отомстил всем, кто был связан с судебным спором о земельном участке, проехав на бульдозере через здание администрации цементного завода, офис местной газеты и дом вдовы бывшего судьи. У Звягинцева предприниматель, на которого «наехал» мэр-вор, а суд принял решение в пользу мэра, не бунтует. Автор, поманив зрителя намеком на возможную месть обидчикам, завернул сюжет в другую сторону. Не в природе нашего человека бороться с государством и обществом во имя исполнения закона. Те, кому это свойственно, — родом из других краев. Персонаж бранденбургской хроники — торговец лошадьми Ганс Кольхазе — в 1532 году направлялся торговать на Лейпцигскую ярмарку, но прибыл туда с пустыми руками. Слуги саксонского юнкера фон Цашвица отобрали у него двух лошадей. Кольхазе попытался возместить убыток через суд, но потерпел неудачу. Тогда, собрав вокруг себя других недовольных, он объявил войну своему притеснителю, а заодно и всей Саксонии, и во главе шайки недовольных занялся разбоем и грабежом.
Триста лет спустя в России, в 1832 году в Козловском уездном суде, слушалось дело «О неправильном владении поручиком Иваном Яковлевым сыном Муратовым имением, принадлежащим гвардии подполковнику Семену Петрову сыну Крюкову». Материалы этого дела вместе с рассказом П. В. Нащокина о судьбе белорусского помещика Островского, оставшегося без земли и подавшегося в грабители, стали основой сюжета пушкинского «Дубровского». Несколько ранее, в 1810 году, бранденбургский сюжет послужил материалом для Генриха фон Клейста. Михаэль Кольхаас — так он назвал героя одноименной повести — вначале требует справедливости, а не найдя поддержки у правосудия, прибегает к самосуду, сжигая с поместьем обидчика несколько городов, и вместе с сообщниками успешно воюет против регулярной армии, посланной на его усмирение. В конце концов, Кольхаас добивается от властей, чтобы состоялся суд, и тут же распускает свое воинство, щедро одарив каждого. Суд удовлетворяет его иск, осуждает виновного, возвращает Кольхаасу отобранное имущество (коней), а его самого приговаривает к смерти «за нарушение имперского мира» (нельзя верить государству). Различие между Дубровским и Кольхаасом налицо. Первый в сравнении со вторым — не больше чем очередной «благородный разбойник» (не по этой ли причине Ахматова считала неоконченный пушкинский роман «чтивом»?). Европейцу нужна не просто справедливость, а справедливость по закону. «Я не могу жить в стране, которая не защищает моих прав» — вот причина его бунта. Но что для немца хорошо (суд, в ходе которого человек может доказать свою правоту), для русского — беда. Вот почему Дубровский распускает свою «банду» и скрывается за границей от правосудия. В предисловии к несостоявшемуся изданию Клейста Борис Пастернак писал:
«Читая у Клейста описание поджогов и убийств, совершенных из высоких побуждений, нельзя отделаться от ощущения, что Пушкин мог знать Клейста, когда писал Дубровского».
Но уж кто точно читал Клейста, так это Доктороу, чей роман «Рэгтайм» у нас хорошо известен в переводе Василия Аксенова. Его сюжет едва ли не один в один повторяет историю Михаэля Кольхааса. Когда вышел «Рэгтайм», я романа Клейста не читал, а решив прочитать, обнаружил, что героя зовут Колхаус Уокер, а сам он именует себя мистер Колхаус-младший (отсылка к старшему — Кольхаасу). Только действие происходит в Америке лет сто назад, и конфликт — между черным и белыми, а не между предпринимателем и помещиком; вместо коней же — новомодный в начале прошлого века автомобиль «Форд». Чернокожего музыканта оскорбляют белые пожарные. Не найдя на них управы в суде, он начинает мстить и в конце концов становится главарем банды террористов, уничтожающих пожарные управы по всей Америке. После серии взрывов власти идут на переговоры и возвращают ему машину. Но вместо суда он получает пулю в лоб — такова логика борьбы с террором (нельзя верить государству).
Так говорят коллаборационисты.
Когда рухнули башни в Нью-Йорке, они говорили:
«А чего пиндосы повсюду лезут? Не лезли бы, ничего бы и не случилось».
Когда расстреливали в Париже, они говорили:
«А чего Гейропа отказывается от «традиционных ценностей»? Не оскорбляли бы ничьих религиозных чувств, ничего бы и не было».
А ведь речь не о каких-то там терактах, речь о войне — войне против того мира, где живем и мы, при всей нашей «особости». Враг хочет если не оккупировать его, то, по крайней мере, подчинить своим законам. Так вот, все эти люди, которые так говорят, — не кто иной, как коллаборационисты. Конечно, они лишь частично разделяют идеологию «исламистов». Но ведь и пособники фашистов в Великую Отечественную нередко шли к ним на службу, далеко не во всем соглашаясь с оккупантами, ну разве что разделяя их ненависть к евреям. А другие думают примерно так:
«Кирпич никому просто так на голову не упадет, иначе такое может и со мною случиться, а я ведь ни в чем не виноват».
По сути эти — заодно с коллаборационистами. К тому же они ошибаются.
С точки зрения виктимологии.
Есть люди, от которых вечно слышишь что-нибудь такое:
«Да он сам виноват, что его ограбили, нечего ночью шляться, сидел бы дома, ничего бы не случилось».
Или:
«Она сама виновата, что ее изнасиловали, зачем к нему домой пошла, зачем к себе пригласила, зачем отправилась на дискотеку в открытом платье?».
Такие люди глухи в нравственном смысле, и нормальному человеку трудно иметь с ними дело. Это я к тому, как невыносимо слушать Проханова с Шаргуновым да примкнувшего к ним Лимонова, когда те толкуют о вине погибших журналистов «Шарли» или о том, что, публикуя известные карикатуры, они знали, на что шли. Говорить такое после трагедии бессовестно, но эти говорят — то ли из злорадства, то ли сами искренне хотят, чтобы таких карикатур больше не было, и в этом смысле они заодно с убийцами. Фундаменталисты всех стран, соединяйтесь! И они соединяются — если не во взглядах, то в выводах. И, тем не менее, в каком-то смысле эти злые люди правы. С точки зрения виктимологии, все именно так. Эта наука, как известно, изучает поведение жертв преступлений, выявляет предрасположенность к тому, чтобы стать жертвой, советует, как этого избежать. Так вот, карикатуристы понимали, на что шли, не могли не понимать, что они потенциальные жертвы. Знали, во что превратилась их страна, где гости с востока давно уже стали весомой частью электората, а их воззрения давно уже влияют не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику.
Только не подумайте, что эти гости — сплошь плохие, нет, люди как люди. Просто им неуютно жить в светском государстве, у них не принято плохо говорить о религии, в их культуре не было вольтеровского «раздавите гадину» и тем более карикатур Жана Эффеля. У них вообще запрещено изображать человека. «Запад уже живет в страхе, — лет пятнадцать назад писала Ариана Фаллачи. — Люди боятся оскорбить и быть наказанными за оскорбление сыновей аллаха». Европа уже давно предрасположена к тому, чтобы стать перманентной жертвой. А коли она не может заставить гостей жить по своим правилам, значит, должна смириться и подчиниться чужим. Или не принимай гостей, или уж постарайся их не раздражать. С точки зрения виктимологии это, увы, единственно верная позиция.
Прототипы – 2.
Популярнейший сериал «Однажды в Ростове» — попытка совместить события, в реальности, не имевшие друг к другу никакого отношения, скажем, новочеркасский расстрел и появление банды «фантомасов», будто бы решивших отомстить подлому государству. На самом же деле суд в Новочеркасске состоялся в августе того же 1962 года. Семерых организаторов «массовых беспорядков» осудили к смертной казни. Вот один из пунктов обвинения:
«Выступая в качестве представителя от бандитов и хулиганов, Мокроусов в беседе с прибывшими в город Новочеркасск руководителями КПСС и Советского правительства вел себя дерзко и вызывающе, в наглой форме требовал вывода воинского подразделения из города, злобно клеветал на материальное положение трудящихся, наносил угрозы и грубые оскорбления в адрес руководителей партии и правительства».
За «беседу с прибывшими» Мокроусов поплатился жизнью. Среди прибывших 2 июня в Новочеркасск была едва ли не половина политбюро (тогда оно называлось президиумом): помимо Микояна — Козлов, Полянский, Шелепин, Ильичев, Кириленко. С ними не рекомендовалось грубо разговаривать. Местным судьям дело «зачинщиков» не доверили, из Москвы прислали самого председателя Верховного суда РСФСР. Лев Николаевич Смирнов спешно провел в Новочеркасске, в местном Доме культуры, выездную сессию и подписал смертные приговоры «зачинщикам» мирной демонстрации.
Льва Николаевича Смирнова я видел и слышал его много раз, однажды даже в его собственном кабинете. При близком общении был поражен его образованностью, непривычной для руководящей публики тех лет. На это обратил внимание и Владимир Войнович, так описывающий встречу с ним в ЦДЛ:
«Смирнов, желая расположить писателей к себе, демонстрировал свою образованность, знание английского языка (упоминая вскользь, что по утрам читает «Морнинг Стар») и не боялся произнести слово «феномен» с ударением на втором слоге. Синявского и Даниэля, по его словам, судили не за то, что они печатались за границей, а за то, что совершили преступления. А в чем состояли преступления, если не в печатании за границей, так объяснить и не смог».
Процесс Синявского и Даниэля, кто забыл, был важной вехой в нашей истории. Именно он ознаменовал начало «застоя» — того, брежневского, начавшегося вовсе не с устранения Хрущева, а с суда над писателями. Тогда воспрянувшие было после «оттепели» советские граждане поняли, что к чему, что новое недалеко ушло от еще не забытого старого. Между прочим, мне был хорошо знаком прокурор, поддерживавший обвинение на процессе. В конце перестройки он получил некоторую известность благодаря выступлениям по телевизору, где обрушивался на Сталина и сталинистов. А в 1994 году мне посчастливилось познакомиться с самим Синявским. Это было в Париже, и его, естественно, интересовало происходящее в России. Однако мой рассказ об обвинявшем его прокуроре писателя не заинтересовал. Андрей Донатович объяснил почему. «Прокурор на том процессе был не нужен вовсе, — заметил он. — За обвинителя все делал судья». Лев Николаевич Смирнов, Герой Социалистического Труда, член ЦК КПСС, лежит на Новодевичьем, сохранил о себе добрую память.
Не нарушая имперского мира.
Как только Смирнов поднялся на высшую ступень судейской карьеры, возглавив Верховный суд СССР (повысили его ровно через десять лет после Новочеркасска), вспомнил о гособвинителе на том поворотном процессе и предложил ему сменить работу. Тот охотно согласился — в прокуратуре у него с карьерой не заладилось. В Верховном суде мы с ним и познакомились. Вы, наверное, представляете себе какого-нибудь держиморду. А вот и нет. Хотя в его облике проскальзывали начальственные черты (величавые манеры, командный голос), интонации выдавали интеллигента. К тому же он ненавидел Сталина и сталинистов и даже позволял себе высказываться по этому поводу в моем присутствии, предварительно затворив тяжелую дверь огромного кабинета. Как-то раз, заперев ее, раскрыл том секретного дела 1937 года и «с выражением» прочитал антисталинское воззвание Рютина, за которое тот поплатился жизнью. Немного рисковал, конечно, но мы, разоблачители «культа личности», каким-то чутьем узнавали друг друга по взгляду и не боялись доноса. Естественно, мне не приходило в голову поинтересоваться, как он мог участвовать в судебном процессе, ознаменовавшем начало реабилитации сталинских порядков. Прокурор однажды сам затронул эту тему и стал говорить, что Ленин для него — это святое, а Синявский и Даниэль в своих «пасквилях» посмели поднять на него руку. Что ж, меня такое объяснение в чем-то успокоило, я и сам исповедовал в то время нехитрую формулу:
«Ленин хороший, Сталин плохой».
К тому же прокурора наверняка заставили, додумывал я, обвинять писателей, а даже если не заставили, что он мог сделать, когда предложили, — от таких предложений не принято было отказываться. Спустя годы я узнал от его сослуживцев по союзной прокуратуре, что он сам напросился. На этом можно было бы закончить рассказ, но я дополню его следующим рассуждением. Прокурор, по-видимому, принадлежал к тому сорту людей, в ком мирно уживаются взгляды прямо противоположные. Утром — демократ, вечером — охранитель, за закрытой дверью — критик начальства, при открытой — горячий сторонник. И, что удивительно, никакого раздвоения личности такие люди не испытывают — живут в мире с самими собой. А что еще более удивительно — таких людей я вижу вокруг все чаще и чаще.

Материал на основе анализа сайтов Интернета подготовил Вице-президент Федерального общественного виртуального медиахолдинга «Россия - Сегодня», председатель виртуального клуба «Интеллектуалы Урала», кандидат философских наук А. И. Шарапов.